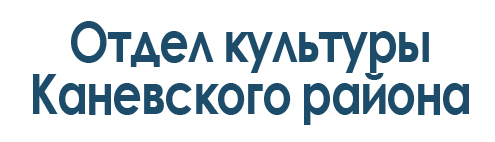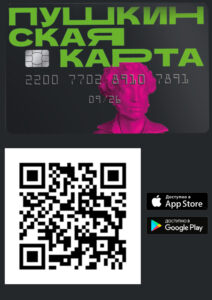85 лет назад Александр Куприн вернулся из эмиграции вместе с удивительной женщиной, чтобы через год умереть.
Ослепительно белый гроб везли шесть белых лошадей. Весело, словно ничего не случилось, звенели трамваи, гроздьями висли на автобусах ленинградские мальчишки, а табунки машин замирали у перекрестков. Все было символично в тот день — 25 августа 1938 года. Во-первых, хоронили поручика белой армии, блестящего наездника, который на пари мог подняться на лошади на второй этаж ресторана, и, тем же манером, вернуться на улицу. Во-вторых, последний путь его — просто не мог миновать Разъезжую улицу где он не только закончил свою повесть «Поединок», но стал известным классиком. А в-третьих, между белыми дрогами и белой колесницей с венками из белых цветов ехали в черной «эмке» две жены его — первая страсть и последняя нежность! — две самые дорогие женщины, с которыми он, представьте, почти в один день познакомился как раз на Разъезжей. В доме, который и ныне легко найти…
Две судьбы с Разъезжей.
«Среди равных побеждает тот, кто уверен в своей победе», — любил повторять он. А проигрывает — кто «потеряет сердце». Так и написал: «Потеря сердца… Ее знают акробаты, всадники, борцы и артисты. Это болезнь постигает свою жертву без предупреждений». Сам Куприн «потеряет сердце», кажется, однажды. В тот день он впервые пришел на Разъезжую. Сюда, в редакцию журнала «Мир Божий», его, насквозь провинциального мужичка (автора, правда, уже и «Олеси», и «Молоха»), привел друг Иван Бунин. Всё было в его жизни. А людей научился узнавать, представьте, по запаху. Да, «потянет носом, — вспоминала писательница Надежда Тэффи, — и конец — знает, что это за человек… Юнкера у него пахли мышатиной, девушки арбузами и почками тополиными. Что говорить: с Буниным соревновался — какой запах у костела во время заутрени или, скажем, у арены в цирке? Недаром последний заметит потом: «Сколько в нем было этого звериного! Чего стоило одно обоняние?» Но неоглядчивый, уверенный, он не знал еще, чем пахнет «потеря» сердца — страсть…
«Среди равных побеждает тот, кто уверен в своей победе», — любил повторять он. А проигрывает — кто «потеряет сердце». Так и написал: «Потеря сердца… Ее знают акробаты, всадники, борцы и артисты. Это болезнь постигает свою жертву без предупреждений». Сам Куприн «потеряет сердце», кажется, однажды. В тот день он впервые пришел на Разъезжую. Сюда, в редакцию журнала «Мир Божий», его, насквозь провинциального мужичка (автора, правда, уже и «Олеси», и «Молоха»), привел друг Иван Бунин. Всё было в его жизни. А людей научился узнавать, представьте, по запаху. Да, «потянет носом, — вспоминала писательница Надежда Тэффи, — и конец — знает, что это за человек… Юнкера у него пахли мышатиной, девушки арбузами и почками тополиными. Что говорить: с Буниным соревновался — какой запах у костела во время заутрени или, скажем, у арены в цирке? Недаром последний заметит потом: «Сколько в нем было этого звериного! Чего стоило одно обоняние?» Но неоглядчивый, уверенный, он не знал еще, чем пахнет «потеря» сердца — страсть…
На Разъезжей друзья узнали, что хозяйка журнала Александра Давыдова больна и примет их ее приемная дочь Муся, двадцатилетняя остроумная Мария Карловна. «Муся была подкидыш, — вспоминала Ариадна Тыркова-Вильямс. — Ее младенцем принесли к дверям Давыдовых… Очень хорошенькая… Ее портил смех, недобрый, немолодой. Точно она говорила: «Какие вы все дураки, и до чего вы мне надоели…» Росла среди знаменитостей (Тургенев, Чехов, Гаршин, молодой Горький). И, конечно, Куприн, в диком полосатом костюме и желтом галстуке с синими цветочками, не только смешался, увидев ее, но едва не спрятался за спину друга.
Бунин же балагурил: «Разрешите представить вам жениха. Талантливый беллетрист, недурен собой… Александр Иванович, — обратился к другу, — повернись-ка к свету!.. Ну… Как вам? У вас товар, у нас купец…» — «Нам ничего, — смеясь, подхватила шутку Маша. — Мы что. Как маменька прикажут…»
Но на другой день обоих принимали здесь уже иначе: стол с крахмальными салфетками, хрусталь, дорогие вина. Теперь обедали с хозяйкой. А двум горничным помогала прислуживать хрупкая девушка с лебединой шеей, которую звали Лизой и к которой относились как «к нелюбимой сироте». Эх, эх, Куприн, уже влюбленный в Машу, не увидел ее и уж, конечно, не знал, что через шесть лет после женитьбы на Маше его второй женой станет как раз она — Лиза Гейнрих, сестра жены Мамина-Сибиряка, отданная Давыдовым на воспитание. Маша, конечно, была ярче, Лиза скромней, та светски лукава, эта — простодушна. Маша знала, как глядеться доброй, Лиза же была — сама доброта. Это ведь Лиза через 37 лет, в Ленинграде у могилы Куприна, заставленной венками из белых цветов, когда они у насыпанного холмика останутся вдвоем с Машей, выдохнет одну фразу всего: «Маша, из меня вынули жизнь…» Это будет еще.
«Поединок» с Машей.
А пока Куприн, стихийный, эмоциональный (он любил говорить, что даже «спичку нельзя зажечь равнодушно!»), был смирен, стреножен именно Машей. Словом, через три месяца — небывалый тогда срок — она станет его женой. Нет, Маша любила его, но, если уж задаваться вопросом, что есть ее любовь, то не ошибемся, сказав: любила, как будущего великого писателя. «Я верю в тебя», — сказала, когда он признался, что хочет писать большую вещь. Из Крыма привезет ей шесть глав «Поединка», повести, где поединком был его личный поединок с царской армией. Но, непредставимо, когда «Поединок» станет буксовать у него, Маша, его любовь, покажет ему на дверь: «Поединок»! А до той поры я для тебя не жена!..» И Куприн, представьте, не порвет поводков, нет. Покорно снимет комнатку на стороне, даже осудит себя: «с влюбленными мужьями иначе нельзя», и — фантастика! — написав очередную главу, будет спешить с ней на Разъезжую, где на черной лестнице (чтобы не встретиться с Машиными знакомыми), просунув рукопись сквозь прикрытую на цепочку дверь, будет ждать, чтобы его впустили в очередной раз. Визит к законной жене, но — как «гонорар»… Бедный, бедный писатель! Однажды, когда он, чтобы увидеть Машу, подсунул уже читанную ей раньше главу, дверь для него не откроется вовсе. Так-то вот! И он, сорвиголова, «мачо», как сказали бы ныне, сядет на грязные ступени черной лестницы и, тихо, по-детски заплачет…
Как было жить с таким? То он три дня пропадает у цыган и его вытаскивает оттуда Вересаев: «На вас смотрит вся читающая Россия, а вы?..» А то, приревновав Машу, когда она вернулась из театра уж чересчур поздно, подожжет на ней черное газовое платье. Такая вот шутка! «Разойтись с ним было трудно», — признается Маша: это было мучительной страстью. Но в этой стихии всегда властвует не тот, который любит больше, а тот, который любит меньше: странный и злой парадокс!..» Он любил Машу больше, чем она его. А его больше, чем себя, любила Лиза. Та Лиза Гейнрих, которую он тоже встретил, помните, на Разъезжей?
Улыбка Лизы. В жилах Лизы текла венгерская кровь, отец ее из старинного знатного рода, Мориц Ротони-Гейнрих, участвовал в восстании мадьяр, и за поимку его была назначена награда. Ничего этого Куприн не ведал и, более того, когда через два года забежал на минутку к Мамину-Сибиряку, то вообще не признал ее — так она похорошела. В тот день ему открыла дверь стройная девушка в форме сестры милосердия. «На фронт едет, на войну с Японией — сказал ему Мамин и якобы добавил. — Смотри, не влюбись». — «Достанется же кому-то такое счастье», — ахнул Куприн.
Но на другой день обоих принимали здесь уже иначе: стол с крахмальными салфетками, хрусталь, дорогие вина. Теперь обедали с хозяйкой. А двум горничным помогала прислуживать хрупкая девушка с лебединой шеей, которую звали Лизой и к которой относились как «к нелюбимой сироте». Эх, эх, Куприн, уже влюбленный в Машу, не увидел ее и уж, конечно, не знал, что через шесть лет после женитьбы на Маше его второй женой станет как раз она — Лиза Гейнрих, сестра жены Мамина-Сибиряка, отданная Давыдовым на воспитание. Маша, конечно, была ярче, Лиза скромней, та светски лукава, эта — простодушна. Маша знала, как глядеться доброй, Лиза же была — сама доброта. Это ведь Лиза через 37 лет, в Ленинграде у могилы Куприна, заставленной венками из белых цветов, когда они у насыпанного холмика останутся вдвоем с Машей, выдохнет одну фразу всего: «Маша, из меня вынули жизнь…» Это будет еще.
«Поединок» с Машей.
А пока Куприн, стихийный, эмоциональный (он любил говорить, что даже «спичку нельзя зажечь равнодушно!»), был смирен, стреножен именно Машей. Словом, через три месяца — небывалый тогда срок — она станет его женой. Нет, Маша любила его, но, если уж задаваться вопросом, что есть ее любовь, то не ошибемся, сказав: любила, как будущего великого писателя. «Я верю в тебя», — сказала, когда он признался, что хочет писать большую вещь. Из Крыма привезет ей шесть глав «Поединка», повести, где поединком был его личный поединок с царской армией. Но, непредставимо, когда «Поединок» станет буксовать у него, Маша, его любовь, покажет ему на дверь: «Поединок»! А до той поры я для тебя не жена!..» И Куприн, представьте, не порвет поводков, нет. Покорно снимет комнатку на стороне, даже осудит себя: «с влюбленными мужьями иначе нельзя», и — фантастика! — написав очередную главу, будет спешить с ней на Разъезжую, где на черной лестнице (чтобы не встретиться с Машиными знакомыми), просунув рукопись сквозь прикрытую на цепочку дверь, будет ждать, чтобы его впустили в очередной раз. Визит к законной жене, но — как «гонорар»… Бедный, бедный писатель! Однажды, когда он, чтобы увидеть Машу, подсунул уже читанную ей раньше главу, дверь для него не откроется вовсе. Так-то вот! И он, сорвиголова, «мачо», как сказали бы ныне, сядет на грязные ступени черной лестницы и, тихо, по-детски заплачет…
Как было жить с таким? То он три дня пропадает у цыган и его вытаскивает оттуда Вересаев: «На вас смотрит вся читающая Россия, а вы?..» А то, приревновав Машу, когда она вернулась из театра уж чересчур поздно, подожжет на ней черное газовое платье. Такая вот шутка! «Разойтись с ним было трудно», — признается Маша: это было мучительной страстью. Но в этой стихии всегда властвует не тот, который любит больше, а тот, который любит меньше: странный и злой парадокс!..» Он любил Машу больше, чем она его. А его больше, чем себя, любила Лиза. Та Лиза Гейнрих, которую он тоже встретил, помните, на Разъезжей?
Улыбка Лизы. В жилах Лизы текла венгерская кровь, отец ее из старинного знатного рода, Мориц Ротони-Гейнрих, участвовал в восстании мадьяр, и за поимку его была назначена награда. Ничего этого Куприн не ведал и, более того, когда через два года забежал на минутку к Мамину-Сибиряку, то вообще не признал ее — так она похорошела. В тот день ему открыла дверь стройная девушка в форме сестры милосердия. «На фронт едет, на войну с Японией — сказал ему Мамин и якобы добавил. — Смотри, не влюбись». — «Достанется же кому-то такое счастье», — ахнул Куприн.
Потом до него будут доходить слухи, что Лиза добралась до Мукдена, пережила какое-то крушение поезда в иркутском туннеле, работала в полевом госпитале и даже награждена медалями. Но ошеломило другое: то, что Лиза едва не покончила с собой. Знаете, из-за чего? Из-за того, что человек, которого она встретила на фронте, врач, с которым даже, кажется, обручилась, на ее глазах избил до полусмерти какого-то рядового солдата. Вот чего не стерпела. Как он понял тогда ее! «Прилив теплого, бесконечного сострадания охватил его…» Со-страдание — совместное страдание! Золото душ, пароль, по которому узнают друг друга истинно любящие людей люди. Ну как им, таким одинаковым, было не сойтись?..
19 марта 1907 года Лиза и Куприн выехали за границу. Она везла его в Гельсингфорс лечиться — это было единственным ее условием. А через 11 лет их «медовый» Гельсингфорс станет первой точкой долгой эмиграции Куприных, последней ниткой, пуповиной, связывавшей их с Россией, которую на этот раз они разорвут вместе.
Ах, сколько счастья было у нее с ним в России! Нет, Куприн не стал другим, но Лиза с ним почти всегда улыбалась. Улыбалась, когда он в казино, выиграв несколько пригоршней золотых, на другое утро, прячась за портьерой номера в отеле, бросал вниз, на аллею парка, монету за монетой и наблюдал, как богатые обитатели гостиницы воровато поднимают их, «скаля клыки»… И уж, конечно, не могла не улыбаться днем и ночью, видя, как он, сочиняя «Суламифь» (писал ее под впечатлением любви к ней), выскакивал на двор охлаждаться и, как ребенок, горстями глотал снег. Он молодел с ней. «Есть двоякого рода мудрость, — скажет о нем друг Батюшков. — Одна легко черпается из книг, другую с трудом берут у жизни». Вот Куприн и брал ее — когда с трудом, а когда с птичьей легкостью, как барьер в конном манеже. Брал, добавим, чтобы переплавлять мудрость эту в рассказы и повести, романы и пьесы. Пользуйтесь, черпайте, читайте!
Красные, белые и «зеленый домик». Когда в 1917-м после долгого перерыва зазвонили колокола, Куприн удивился — это известно — но, не меняя привычек, достал самодельный пиратский флаг и пошел вывешивать его в саду. Мальчишка и в 48, он в дни красной, а затем и белой мясорубки вывешивал у дома этот — свой флаг. Был аполитичен, и хотя Горький хотел сделать из него «глашатая революции», даже этот шутовской флаг вешал не для издевки над красными или белыми, а чтобы дать знак друзьям-соседям, что ждет их, как всегда, на партию в преферанс. Куприн навсегда уйдет из «зеленого домика», уйдет с белыми, даже не заперев, оставив открытой дверь своего дома… «Видели ли вы, как лошадь подымают на пароход, на конце парового крана? Лишенная земли она плывет в воздухе, бессильная, сразу потерявшая всю красоту, со сведенными ногами, с опущенной тонкой головой… Это — я»… Можно долго рассказывать о жизни Куприна в Париже, а можно перечесть эти слова про лошадь и все понять.
Спектакль «Возвращение».
«Дела мои — бамбук», — писал другу из Парижа. В другом письме сообщил: «Денег у меня — ни кляпа», и добавил: «Вино здесь пахнет мокрой собакой». Про Лизу написал, что ей приходится «столько бегать, хлопотать и разрываться на части, что не хватило бы и лошадиной силы». Нет, она не тащила — прикрывала, словно крыльями, защищала, ограждала их. Она никогда не плакала, хотя поводы были. И какие! Скажем, еще в Париже Куприн стал внезапно забывать слова: «Недавно забыл слово «лебедь» в басне Крылова, — жаловался ей. — А ведь лебедь не вздор, а чудесная птица». Не разрыдалась, хотя он и сравнивал ее когда-то с лебедью. Не плакала, когда у него нашли рак, когда везла его в СССР, а он уже не понимал, куда они едут. Мы не знаем, плакала ли она блокадным утром 1942-го перед самоубийством. Но и не улыбнулась ни разу, когда в Москве на Белорусском под фотовспышки к нему кинулся Фадеев, еще недавно кричавший про Куприна, что он «не наш». «Дорогой Александр Иванович! — торжественно, прямо на перроне, начал митинг Фадеев. — Поздравляю вас с возвращением на родину!» Куприн, пишут, глянул на него сквозь темные очки и, с каменным лицом, отчетливо сказал: «А вы кто такой?..» Обиженный Фадеев, уже большой чиновник Союза писателей, кинулся к своему лимузину. Так и осталось неясным: Куприн и впрямь не узнал Фадеева или издевался над соловьем режима? Так что спектакль по имени «Возвращение» удался!..
Два лебединых крыла.
Умирал Куприн на руках у Лизы в Ленинграде. «Сашеньке плохо, — телеграфировала в Москву Маше, теперь по мужу «товарищу Иорданской». — Немедленно выезжай!..» Когда-то в молодости фаталист Куприн сказал, что, умирая, хотел бы, чтобы любящая рука держала его руку до самого конца. Лиза и держала, пока рука не превратилась в лед. «Не оставляй меня, — шептал он в полузабытьи. — Люблю смотреть на тебя… Мне страшно…» Это были последние слова его…
«Любовь — крылатое чувство, — прочтет она потом в вышедшей книге его и поймет — эти строки про нее. — У любви, — писал он, словно посылая ей последний привет, — за плечами два белоснежных длинных лебединых крыла. Я чувствовал ее духовное превосходство надо мною и мою земную тяжесть»… Лебеди не живут друг без друга. И когда один из них умирает, второй, говорят, поднимается высоко-высоко в небо и, сложив крылья, камнем устремляется к земле, чтобы разбиться. Так в Ленинграде, зимой 1942 года, она бросилась вниз на ослепительно белый, нетронутый жизнью блокадный снег.
По материалам журнала «Родина» Л.Человская, гл. библиограф
19 марта 1907 года Лиза и Куприн выехали за границу. Она везла его в Гельсингфорс лечиться — это было единственным ее условием. А через 11 лет их «медовый» Гельсингфорс станет первой точкой долгой эмиграции Куприных, последней ниткой, пуповиной, связывавшей их с Россией, которую на этот раз они разорвут вместе.
Ах, сколько счастья было у нее с ним в России! Нет, Куприн не стал другим, но Лиза с ним почти всегда улыбалась. Улыбалась, когда он в казино, выиграв несколько пригоршней золотых, на другое утро, прячась за портьерой номера в отеле, бросал вниз, на аллею парка, монету за монетой и наблюдал, как богатые обитатели гостиницы воровато поднимают их, «скаля клыки»… И уж, конечно, не могла не улыбаться днем и ночью, видя, как он, сочиняя «Суламифь» (писал ее под впечатлением любви к ней), выскакивал на двор охлаждаться и, как ребенок, горстями глотал снег. Он молодел с ней. «Есть двоякого рода мудрость, — скажет о нем друг Батюшков. — Одна легко черпается из книг, другую с трудом берут у жизни». Вот Куприн и брал ее — когда с трудом, а когда с птичьей легкостью, как барьер в конном манеже. Брал, добавим, чтобы переплавлять мудрость эту в рассказы и повести, романы и пьесы. Пользуйтесь, черпайте, читайте!
Красные, белые и «зеленый домик». Когда в 1917-м после долгого перерыва зазвонили колокола, Куприн удивился — это известно — но, не меняя привычек, достал самодельный пиратский флаг и пошел вывешивать его в саду. Мальчишка и в 48, он в дни красной, а затем и белой мясорубки вывешивал у дома этот — свой флаг. Был аполитичен, и хотя Горький хотел сделать из него «глашатая революции», даже этот шутовской флаг вешал не для издевки над красными или белыми, а чтобы дать знак друзьям-соседям, что ждет их, как всегда, на партию в преферанс. Куприн навсегда уйдет из «зеленого домика», уйдет с белыми, даже не заперев, оставив открытой дверь своего дома… «Видели ли вы, как лошадь подымают на пароход, на конце парового крана? Лишенная земли она плывет в воздухе, бессильная, сразу потерявшая всю красоту, со сведенными ногами, с опущенной тонкой головой… Это — я»… Можно долго рассказывать о жизни Куприна в Париже, а можно перечесть эти слова про лошадь и все понять.
Спектакль «Возвращение».
«Дела мои — бамбук», — писал другу из Парижа. В другом письме сообщил: «Денег у меня — ни кляпа», и добавил: «Вино здесь пахнет мокрой собакой». Про Лизу написал, что ей приходится «столько бегать, хлопотать и разрываться на части, что не хватило бы и лошадиной силы». Нет, она не тащила — прикрывала, словно крыльями, защищала, ограждала их. Она никогда не плакала, хотя поводы были. И какие! Скажем, еще в Париже Куприн стал внезапно забывать слова: «Недавно забыл слово «лебедь» в басне Крылова, — жаловался ей. — А ведь лебедь не вздор, а чудесная птица». Не разрыдалась, хотя он и сравнивал ее когда-то с лебедью. Не плакала, когда у него нашли рак, когда везла его в СССР, а он уже не понимал, куда они едут. Мы не знаем, плакала ли она блокадным утром 1942-го перед самоубийством. Но и не улыбнулась ни разу, когда в Москве на Белорусском под фотовспышки к нему кинулся Фадеев, еще недавно кричавший про Куприна, что он «не наш». «Дорогой Александр Иванович! — торжественно, прямо на перроне, начал митинг Фадеев. — Поздравляю вас с возвращением на родину!» Куприн, пишут, глянул на него сквозь темные очки и, с каменным лицом, отчетливо сказал: «А вы кто такой?..» Обиженный Фадеев, уже большой чиновник Союза писателей, кинулся к своему лимузину. Так и осталось неясным: Куприн и впрямь не узнал Фадеева или издевался над соловьем режима? Так что спектакль по имени «Возвращение» удался!..
Два лебединых крыла.
Умирал Куприн на руках у Лизы в Ленинграде. «Сашеньке плохо, — телеграфировала в Москву Маше, теперь по мужу «товарищу Иорданской». — Немедленно выезжай!..» Когда-то в молодости фаталист Куприн сказал, что, умирая, хотел бы, чтобы любящая рука держала его руку до самого конца. Лиза и держала, пока рука не превратилась в лед. «Не оставляй меня, — шептал он в полузабытьи. — Люблю смотреть на тебя… Мне страшно…» Это были последние слова его…
«Любовь — крылатое чувство, — прочтет она потом в вышедшей книге его и поймет — эти строки про нее. — У любви, — писал он, словно посылая ей последний привет, — за плечами два белоснежных длинных лебединых крыла. Я чувствовал ее духовное превосходство надо мною и мою земную тяжесть»… Лебеди не живут друг без друга. И когда один из них умирает, второй, говорят, поднимается высоко-высоко в небо и, сложив крылья, камнем устремляется к земле, чтобы разбиться. Так в Ленинграде, зимой 1942 года, она бросилась вниз на ослепительно белый, нетронутый жизнью блокадный снег.
По материалам журнала «Родина» Л.Человская, гл. библиограф